
В медицине постоянно появляются новые многообещающие технологии, но не все они проходят проверку временем и доходят до пациентов. Тем не менее есть некоторые направления, которые в ближайшие годы обязательно изменят жизни миллионов людей.
Лондонский венчурный фонд 4BIO Capital инвестирует в медицинские компании, которые предлагают технологические решения для болезней, с которыми человечество еще не научилось бороться. Вести подобный бизнес в России было бы невозможно, говорят в фонде, — сказывается отсутствие бюджетов на дорогостоящие биотехнологии и сравнительно небольшой объем фармацевтического рынка.
Лондон в этой сфере открывает новые перспективы: внушительное количество лабораторий с интересными разработками, доступ к новейшему оборудованию у большинства ученых. Результат — один лишь Кембриджский университет выпускает столько же научных исследований в год, сколько все российские биологи, сравнивает партнер фонда, живущий в Лондоне ученый и инвестор Дмитрий Кузьмин. Поговорили с ним о том, какой будет медицина будущего.
— Какие направления медицины вы считаете перспективными и в какие инвестируете?
— В России недавно появился новый термин — «прорывные терапии», это дословный перевод английского breakthrough therapy, который на Западе уже стал юридическим термином. Мы не занимаемся обычными таблетками, нам интересно только то, что связано с новыми подходами в медицине. В этом году мы больше всего внимания планируем уделять генной терапии. За последние три года FDA и Европейским медицинским агентством было одобрено пять новых генных терапий. Мы ожидаем одобрения еще восьми.
Сейчас основная задача для многих лабораторий — выйти из «детского сада»: последние пять лет все эти терапии были направлены на лечение очень редких заболеваний, теперь надо переходить к заболеваниям с хотя бы с сотней тысяч больных по миру. По нашим оценкам, индустрии понадобится еще пять лет, чтобы это сделать. А после этого можно уже будет говорить о генной терапии, например, ревматоидного артрита, очень распространенной проблеме.
— Чем генная терапия отличается от геномного редактирования? И как вообще происходит лечение?
— Геномное редактирование — это часть генной терапии. А генная терапия — это очень широкий термин, по сути, это все, что лечит гены.
Как лечат гены с помощью современной одобренной генной терапии? Предположим, есть вредная генетическая мутация, которая вызывает заболевание. Если из-за этой мутации нужный белок не производится или производится в малом количестве, можно сделать так называемую замену генов. Мы берем вирус, убираем его естественный геном и пишем ему новый.
Новый геном содержит в себе последовательность гена и регуляторную последовательность, которая говорит ему, куда «ехать» — например, в печень.
Потом вещество вводится внутривенно или в глаз, если проблема с глазами. Вирус заражает нужные нам клетки, гены попадают туда, и внутри него начинает производиться белок. Важно здесь то, что гены не встраиваются в естественный геном клеток. Процесс идет чуть-чуть параллельно. Это очень хорошо, потому что нет никаких шансов что-то сломать. Но в этом есть и минусы, потому что половина клеток будет терять нужный нам ген, он будет размываться.

Второй подход — встраивание нового гена в геном. У нас в портфеле есть компания Orchard Therapeutics, которая базируется в Лондоне, она занимается именно этим. Допустим, есть больной ребенок, у которого нет иммунной системы — просто не хватает этого гена. Врачи забирают образец клеток его костного мозга, в лаборатории заражают их вирусом, который вставляет нужный ген в геном, и клетки возвращаются обратно. Теперь, сколько бы они ни делились, у них всегда будет этот ген. По-английски это называется gene replacement.
Это же можно делать с помощью редактирования генов. Само редактирование существует больше 30 лет, а новая технология CRISPR-Cas позволяет это делать дешево и просто. В будущем CRISPR должен помочь масштабировать технологию. Что делает редактирование генов? Говоря упрощенно, вы берете ножницы, находите опечатку, вырезаете опечатку и вставляете правильный кусочек. Главная опасность — это внесение дополнительных ошибок в код. Последствия таких интервенций еще не изучены.
— Что сегодня можно вылечить с помощью генной терапии?
— Один из первых появившихся препаратов лечит генетическую слепоту. Другой — заболевания, которые связаны с полной потерей иммунитета при рождении. Есть такой фильм «Под колпаком» с Джоном Траволтой, он про молодого человека, живущего в пузыре из герметичного пластика. Таких детей сейчас полностью излечивают, на 100%.
Еще один препарат лечит спинально-мышечную атрофию. Это чудовищное заболевание, дети с ним не доживают и до трех лет из-за отказа спинного мозга. Эта терапия либо полностью излечивает заболевания, либо очень существенно меняет его ход.
И недавно была одобрена терапия талассемии — редкого заболевания крови, которое встречается в странах Средиземноморского бассейна.
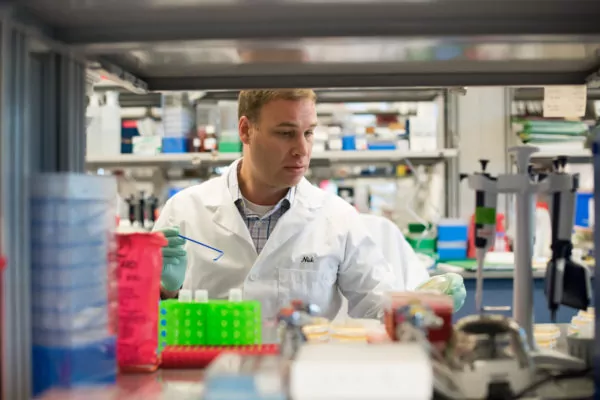
— Вы сказали, что терапия, которая сейчас используется для редких заболеваний, скоро будет использоваться для распространенных. Когда?
— Мы никогда не можем взобраться на Олимп с подножья. Мы всегда должны делать последовательные шаги. Мы научились производить генную терапию только в научных исследованиях, теперь мы учимся, как производить генную терапию на 10 000 больных по миру. Пока мы не автоматизируем процесс и не отработаем все достаточно хорошо, мы не сможем приблизиться к лечению болезней с миллионом больных.
Шаг от клинических исследований до терапии 10 000 пациентов занял у нас семь лет. Шаг от 10 000 пациентов к сотням тысяч займет меньше, наверное, года четыре.
Один год уже прошел. Если удастся добиться полной автоматизации производства, чтобы человек вообще в этом не участвовал, то до миллионных заболеваний доберемся очень быстро.
Помимо вопросов производства надо решить и регуляторные вопросы. Лекарства второго поколения, например, антитела, столкнулись с этой проблемой. Допустим, у вас есть два антитела, полученные разными способами, но воздействующие на одну и ту же мишень. Непонятно, можно ли получить патент на каждый из них. А теперь мир биоинженерии стал еще сложнее, потому что появилась клеточная терапия. Какие клетки считать одинаковыми, если вы не можете определить химическую структуру всей клетки? Это очень важные вопросы, которые нужно решить, чтобы все функционировало на юридическом уровне.
Третий аспект — это страховки и возмещения. Как работают эти экономические модели? Мы раньше никогда не сталкивались с полным излечением хронических заболеваний. Слово «хронический» означает, что эти заболевания не лечатся окончательно. А теперь появляются люди, которые, например, вылечились от гемофилии с помощью одного укола. Как оценить полное излечение семилетнего мальчика на оставшиеся 80 лет жизни? Нужно сделать так, чтобы и компания получила прибыль, и государство сэкономило, и так далее. Довольно сложные вопросы, вокруг которых крутится политика.

— Будет ли генная терапия настолько доступна, что препарат можно будет купить за несколько долларов в аптеке?
— Себестоимость этих препаратов упадет таким образом, что они станут доступны миллионам человек. Сейчас она составляет сотни тысяч долларов, потому что все делается в лаборатории, руками, небольшими партиями. В ближайшие годы она упадет до десятков тысяч долларов, потом до тысяч долларов, потом, наверное, до сотен и, может быть, даже до десятков долларов.
Если в какой-то момент мы сможем изобрести для генной терапии дешевый способ воспроизводства клеток, то о чем вы говорите, будет возможно. Например, ученые научились делать антитела в растениях. У растений нет никаких антител, но тем не менее это технически возможно.
Другой вопрос — будет ли безопасно продавать препараты в аптеке. Все-таки мы говорим о перманентном изменении биологии тела. Интервенции делаются под наблюдением врача, при полной готовности реанимировать пациента, если что-то пойдет не так. Я не уверен, что это сильно изменится. Скорее всего, пройти генную терапию можно будет у своего участкового врача, но делать это полностью без медицинского наблюдения — я не думаю.
— Смогут ли прорывные терапии вылечить рак или болезнь Альцгеймера?
— Рак уже лечится. Недавно был сделан большой шаг в клеточной терапии рака. В-клеточный острый лейкоз — один из самых распространенных раков у детей. Есть уже два одобренных препарата, которые работают следующим образом: берутся Т-клетки пациента — это клетки, которые убивают врагов в нашем иммунитете, — и в лаборатории генетически модифицируются, чтобы научиться распознавать В-клеточный рак, и их вкалывают обратно пациенту. Эта терапия для людей, у которых был В-клеточный рак, его вылечили, он вернулся, и больше он не отвечает на терапию. С таким диагнозом люди живут три-шесть месяцев. Теперь примерно 75–80% пациентов отвечают на терапию, половина из них вылечивается.
— А что касается Альцгеймера?
— За время моей научной карьеры я видел, как выдвигались четыре фундаментальные причины Альцгеймера. Каждую из них использовали, чтобы сделать препарат, но ни один из них не сработал. Наш фонд не инвестирует в препараты от Альцгеймера, потому что биология болезни на сегодняшний день непонятна.

— Что насчет вирусов? Китайский коронавирус оказался опасен.
— Человечество пока не преуспело в сфере противовирусных препаратов. Вакцины помогают, но с помощью терапии на сегодняшний день лечится только пара вирусов: гепатит С и функционально излечили ВИЧ. И на то, и на другое потребовалось примерно 30 лет.
Проблема в том, что не хватает инвестиций в разработку противовирусных препаратов, тем более от мелких вирусов.
Это плохо, потому что шансы человечества пострадать от условного вируса гриппа с летальностью 10% вместо 2%, мягко говоря, выше, чем от атомной войны.
Было бы неплохо научиться как-то быстро разрабатывать противовирусные препараты. Для этого надо ускорить процесс разработки малых молекул. Но это под силу лишь корпорациям, да и то при помощи государства. Сейчас много попыток это сделать. Посмотрим, что из этого всего получится. Единственное, что мы можем сейчас сделать, — это эпидемиология, контроль.
— Сейчас нет эффективных лекарств от простуды, появятся ли они в будущем? На экономике бы это хорошо сказалось — люди бы реже пропускали работу.
— Простуда — это примерно 500 разных заболеваний. В некотором смысле с ней бессмысленно бороться. Понятно, что люди хотят магическую таблетку, но в реальности применение противовирусных таблеток во время простуды вряд ли будет хорошей тактикой. Такие таблетки всегда имеют какую-то токсичность. Нужно помнить: каждая малая молекула, которую мы принимаем, повреждает печень. Каждая. Так что применение лекарственных средств должно быть осмысленным.
Лучше во время простуды пить чай с медом и лимоном.
Пользуясь случаем, скажу еще про растительные лекарственные препараты, которые часто ошибочно считают безопасными, поскольку они натуральные. В Великобритании есть такая система «желтых карточек» — люди сообщают о негативных эффектах лекарств, которые принимают. Одна из пяти «желтых карточек» связана с лекарствами с растительными добавками или полностью растительными препаратами. Это всевозможные успокоительные, календулы и прочее, которые в комбинации, например, с антидепрессантами могут отправить человека в кому. Таблетка — это хотя бы чистое соединение, ты точно знаешь, что принимаешь. Растения — это всегда жесткий микс из неизвестных соединений. В любом случае все лекарства — токсичные, и во время простуды лучше обходиться без них.

— Еще про одно ваше направление — микробиом. В последние годы появилось много исследований, подтверждающих важность разнообразия кишечных бактерий для здоровья. Что именно вы делаете в этом направлении и каких результатов ожидаете?
— На самом деле понимание важности микробиома появилось давно — даже в Советском Cоюзе был диагноз дисбактериоз. Что произошло за последние 10–15 лет? Мы стали намного лучше понимать природу микробиомов человека, поскольку появились новые инструменты для исследований, и получилось неплохо описать библиотеку тех бактерий, которые живут внутри организма. Это направление достаточно бурно развивается, но остается рискованным, поскольку еще нет ни одного одобренного микробиомного препарата на рынке. Есть лишь перспективные разработки, мы в них инвестировали.
Сейчас у нас есть несколько проектов, связанных с борьбой с хроническими инфекциями в желудочно-кишечном тракте. Главная задача сейчас — сделать так, чтобы механизм действия препаратов был четким и понятным. Пока разработчики до конца не понимают, к чему приведет терапия. Но если удастся решить этот вопрос, то сфера применения будет крайне широкой.
Ведь пока что единственное средство для улучшения кишечного микробиома — это йогурт.
Текст: Полина Потапова, Reminder
Фотографии: Joanna Wierzbicka и Spark Therapeutics, Inc.
Материал был подготовлен совместно с Reminder и впервые опубликован в журнале ZIMA #11, 2020. Покупая печатную или pdf-копию журнала, вы оказываете неоценимую поддержку нам в это кризисное время.
 Загрузка ...
Загрузка ...