Иллюзия первая: «С Дона выдачи нет!»
«В Россию сейчас не выдают». Такие слова мы слышим регулярно не только от наших доверителей, но и от некоторых коллег, которые последний раз уголовный кодекс открывали примерно в студенчестве, в судах тоже давно не бывали, но зато преуспели в геополитической аналитике (или думают, что преуспели). На самом деле, никакие санкции, политические баталии и международные вихри сами по себе никогда не были и не являются сейчас препятствием к удовлетворению экстрадиционных запросов — ни в одной стране, включая самых активных политических оппонентов современной России.
Парижская Конвенция 1957 года о выдаче продолжает действовать, Россия из неё не выходила и не исключалась. Не говоря уже о том, что никуда не делась опция задержания и выдачи на двусторонней основе, в соответствии с договором или в порядке взаимности.
Сократившееся в последние годы количество удовлетворённых российских запросов о выдаче, о котором сетует Генпрокуратура, имеет иные причины. Они заключаются в том, что подобные запросы либо связаны с обвинениями, которые непонятны и ненаказуемы в уголовном порядке других государств, либо качество запросов и их обоснования не позволяют их удовлетворить. Но если российское требование о выдаче связано с обвинением, например, в хищении, наркотрафике, убийстве, вымогательстве и соответствует установленным стандартам по форме и содержанию, то его удовлетворение зависит не от политических факторов, а лишь от степени эффективности защиты.
Иллюзия вторая: «Интерпол за нас!»
«Россию исключили из Интерпола, её заявки там больше не рассматриваются» — второй распространенный тезис, блуждающий по юридическому и особенно околоюридическому рынку. На самом деле и Россию не исключили, и заявки её рассматривают, только централизованно. Это значит, что все российские обращения вначале рассматриваются и проверяются в штаб-квартире Интерпола в Лионе, а национальные бюро принимают их к исполнению только в случае поступления оттуда, но не напрямую из России. Предметом проверки является соответствие обращения Конституции Интерпола, а она, среди прочего, прямо запрещает руководствоваться любыми политическими мотивами и предпочтениями. В общем, если российский следователь окажется старательным, въедливым и минимально квалифицированным по международным стандартам, то через Интерпол обращение пройдет как нож сквозь масло.
Иллюзия третья: магический доступ к «секретным базам».
«Я все проверил и точно знаю, что меня нет в базе данных Интерпола» — этот миф, ласкающий слух и израненную душу доверителя, разбивать зачастую тяжелее всего. Как правило, в подтверждение этой своей иллюзии доверители апеллируют к неким бывшим «высокопоставленным сотрудникам» Моссада, ФБР и даже самого Интерпола. Несколько раз доверители нам упоминали имя бывшего руководителя Интерпола, который по их просьбе якобы звонил туда самолично и, конечно же, всё точно проверил. При этом сам этот уважаемый и всемогущий человек, разумеется, об этой своей эффективной активности не слышал и не подозревал.
На самом деле никто(!) за пределами ограниченного круга лиц в штаб-квартире Интерпола не может этого знать достоверно. По той простой причине, что значительная часть базы данных разыскиваемых лиц засекречена. И ясных критериев, по которым того или иного разыскиваемого включат в открытую или засекреченную часть, не существует. Так что платить западным, а тем более российским «специальным» людям, предлагающим услугу по «точному установлению» этого факта, есть не что иное, как платить за опасные иллюзии. Не говоря уже о новых, создаваемых этими действиями, опасных иллюзиях и прямых уголовных рисках. Гораздо разумнее исходить из презумпции, согласно которой наличие объявленного международного розыска и избранной меры пресечения в виде заключения под стражу — достаточное основание, чтобы считать себя «клиентом» Интерпола. А единственный достоверный способ опровергнуть эту презумпцию — получить официальный ответ самого Интерпола — в ответ на официальное обращение туда с жалобой. И это должен быть ответ именно об окончательно принятом решении об отказе во включении в базу данных или об исключении из неё.
Тем не менее, некоторые люди любят пробовать всё сами и на себе, даже если у них есть адвокат, который говорит им, как действовать правильно. Однажды рано утром нам позвонил наш доверитель, находящийся в международном розыске, инициированном Россией, с которым мы ещё несколько дней назад мирно беседовали в Израиле, и взволнованно сообщил, что он сейчас во Франкфурте, где его задерживает полиция. На вопрос, а что он, собственно говоря, там забыл, ведь ему было более чем настоятельно рекомендовано нами не покидать Землю Обетованную, он ответил, что все проверил сам через какие-то «надёжные контакты в Моссаде» и получил «точный» ответ, что вот сейчас можно свободно лететь. Ну и «прилетел», с двумя посадками: сначала на полгода в тюрьме Франкфурта, а потом на год с лишним в Лефортово, пока наконец не был освобожден и радостно вернулся домой.
Иллюзия четвёртая: «Я невидим и неуязвим»
«У меня есть паспорт (вид на жительство) другой страны, поэтому я могу с ним спокойно путешествовать, и никто меня не задержит», — еще одно типичное заблуждение. На самом деле многие (если не большинство) задержания разыскиваемых лиц с последующей их выдачей происходят именно во время международных путешествий, и невзирая на наличие какого-либо статуса в третьей стране, за исключением статуса беженца. При этом задержание может произойти не только при пересечении границы, но и в любой момент после этого — например, на основании информации о заселении в отель. Так произошло с одним нашим доверителем, который, относительно благополучно проживая во Франции, решил на несколько дней «съездить развеяться в Венецию», мысленно распространив свой французский статус автоматически на весь Евросоюз. Однако был ранним утром разбужен карабинерами в своём уютном номере знаменитого венецианского отеля «Cipriani» и последующие три месяца провел в оправданном беспокойстве и гораздо менее уютных условиях, а мы — в интенсивной адвокатской борьбе за него.
Так что единственная разумная поведенческая альтернатива в период нахождения в международном розыске — не испытывать судьбу и усмирить стремление к перемене мест до полного, окончательного и обязательно документально подтверждённого урегулирования проблемы с розыском.
Иллюзия пятая: «Пока не болит — нечего и лечить»
«Если уж припрет, то я всё решу здесь, а в России ничего делать не надо». Это — практически цитата, как переходящее Красное знамя кочующая из уст в уста среди подавляющего большинства вынужденно «отъехавших» из России.
На самом деле «решить здесь», не предпринимая всех необходимых действий по защите «там», — задача со многими неизвестными и без эффективного решения. Конечно, «здесь» можно найти адвоката, и даже весьма авторитетного, который за достойный гонорар согласится, например, «сходить и предварительно поговорить» в какое-нибудь ведомство (как показывает практика, необязательно в то, которое действительно компетентно и полномочно в интересующем вопросе). Он даже может вернуться оттуда с некой обнадёживающей, но абстрактной информацией из серии «они сказали, что всё будет хорошо». Но потом «вдруг» случится задержание и начнётся официальная процедура рассмотрения экстрадиционного запроса. И этот запрос будет основан исключительно на российской фактуре и нормах российского законодательства. При этом самое неприятное выяснится позже, когда «здешние» адвокаты начнут спрашивать, а существуют ли в природе и в конкретном уголовном деле убедительные доказательства процессуальной борьбы и масштабного нарушения прав подзащитного, а также российских законов. Разумеется, ничего этого не будет, поскольку этим никто не занимался, а машину времени пока изобрел только герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию», да и то не очень удачно у него вышло.
Сможет ли в такой ситуации местный адвокат, ограниченный скупым и односторонним содержанием запроса, не знающий на профессиональном уровне ни всех значимых для дела фактов, ни российских правовых норм и практики их применения, создать эффективную защитительную позицию и эффективно отстоять её перед нероссйским и не особенно сочувствующим истребуемому россиянину судом — вопрос риторический. Разумная альтернатива — полная и как можно более ранняя координация действий российского и местного адвокатов, совместная подготовка защитительной позиции и совместная же её реализация. Не говоря уже о том, что российский адвокат должен руку набить на защите не только от обвинения, но и от экстрадиционных запросов.
Иллюзия шестая: «Поскольку в России нет правосудия — нечего там и защищаться»
Да, обвинительный уклон, неработающая презумпция невиновности и укоренившаяся явочным порядком презумпция доверия ко всему, что говорит и делает сторона обвинения — всё это, к сожалению, не иллюзии. Но реальность в том, что на самом деле шанс на успех есть только при активном и грамотном оппонировании обвинению, создании доказательственного массива, подтверждающего и позицию защиты, и пороки обвинения, и нарушения с его стороны. И главное, при проактивной и — в хорошем адвокатском смысле — агрессивной процессуальной борьбе. Да, это нелегко и небыстро. Но только это может реально помочь в защите — как от экстрадиции, так и от самого обвинения. Только это может вымотать оппонентов на сильной стороне, вызвать у них усталость, неуверенность, осознание того, что «висящее» уголовное дело не добавляет им ничего, кроме отрицательной статистики. Но в этих случаях надо идти до конца. Как это было в нашем недавнем кейсе, где российское следствие, понимая после года борьбы, что единственный их шанс не прекращать процессуально разбитое и доказательственно опустошённое уголовное дело — это ссылаться на невозможность допросить важного свидетеля с перспективой на присвоение ему статуса обвиняемого (нашего доверителя), который в Лондоне. На это и ссылался следователь, продлевая раз за разом срок следствия по делу. Однако получив от защиты детально, в нескольких вариантах проработанное предложение о дистанционном допросе этого человека с приложением его же позиции по существу дела, подкреплённой доказательствами, следователи и их руководители расстались с иллюзиями, решили не умножать попусту сущности и прекратили уголовное дело ровно за день до назначенного допроса. Особо приятная подробность в том, что и сама норма о возможности дистанционного допроса появилась в российском законодательстве с нашей экспертной подачи.
Вместо иллюзий
Когда-то, довольно уже давно, Станислав Ежи Лец задался мудрым вопросом: «Утрата иллюзий — это прибыль или убыток?».
Нам кажется, что если вы просто прочли толику выстраданной адвокатской мудрости, которой мы здесь поделились, то вы совершенно точно уже не в убытке. А будет ли от этого чтения прибыль, зависит только от вас самих. И вашего правильного выбора того, что, как и с кем делать.
Авторы статьи:
- Адвокат Вадим Клювгант, партнер Pen & Paper, соруководитель уголовно-правовой практики.
- Адвокат Константин Добрынин, старший партнер Pen & Paper, глава представительства коллегии в Великобритании.
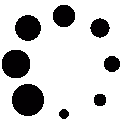 Загрузка ...
Загрузка ...


