Самый прижившийся в мировом искусстве образ Саломеи, благодаря, во-первых, тексту британского автора, а во-вторых, стараниям многочисленных режиссеров по всему миру — образ соблазнительницы, не знающей границ дозволенного и способной ради страсти уничтожить многое.
Здесь же от «la femme fatale» мы видим мало — роковая принцесса в исполнении актрисы Неты Рот на сцене сходит с ума, и с каждой минутой ее безумие разрастается, превращая девушку, которую вожделеет добрая половина героев, в одинокого и капризного ребенка, топающего ногами и издающего рандомные «детские» звуки. Эта Саломея не знает, как противостоять авторитарному отчиму и властной матери, как сделать так, чтобы хотя бы кто-нибудь увидел в ней что-то большее, чем объект для сексуализации. Не справляется она и с тем, чтобы стать частью своего мира, наслаждаться изобильными праздниками и чужими страданиями. Единственный выход она находит в разрушении.

Саломеей в версии Диденко, кажется, может стать кто угодно. Например, сам Оскар Уайльд, при жизни упорно обвиняемый критиками в безнравственности как литературных работ, так и личностной (недаром с конца 1980-х по миру гуляла фотография оперной певицы Алисы Гушалевич, вплоть до 2000 года ошибочно подписываемая «Уайльд в костюме Саломеи»). Легко участь этой иудейской принцессы может постигнуть и любого из зрителей в зале, потому что натиск большого зла слишком велик, и частные судьбы под ним ломаются.

Ключом к этой мысли — мысли о многом общем между Саломеей и каким угодно другим живым человеком — становится и совсем маленькая деталь из описания спектакля.
Time: first century AD
Place: here.
Here — здесь — это и Израиль, на территории которого разворачиваются события пьесы и где впервые был сыгран спектакль Максима Диденко, и Лондон, как викторианский, подвергший пьесу цензуре, так и сегодняшний, раздираемый политическими противоречиями, и зал Royal Haymarket Theatre, в котором когда-то играли премьеры Уайльда, а сегодня израильская труппа выступает под усиленной охраной — мало ли что.

Танец семи покрывал — главная сцена в опере Рихарда Штрауса, уже сто с лишним лет остающейся самой популярной сценической оболочкой пьесы Уайльда, главной становится и у Диденко. Саломея Неты Рот проходит в процессе своего болезненного танца все те же стадии, что и в течение всего спектакля: от знающей свою силу соблазнительницы до ребенка, запутавшегося и пытающегося вырваться из оков одежд и собственной семьи (семьи притом не простой, а держащей в руках власть и принимающей решения, влияющие на тысячи жизней).

Обнаженное тело Саломеи, открывающееся на пике танца, невозможно сексуализировать, как бы этого не хотел тетрарх. Оно истерзано окружающими, жизнью и волшебным голосом Иоканаана (пророка Иоанна Крестителя в библейских текстах), сыгранного у Диденко контратенором Широм Саягом. Голос этот, поющий о грядущем страшном наказании на английском и иврите попеременно, разрывает ткань праздника с реками вина, и только Саломея из присутствующих чувствует его полную силу. И все принимаемые ей на этом фоне решения — не похоть, не каприз, а неизбежное следствие происходящего, коллапс одной личности, накрывающий взрывной волной не только физическую жизнь Другого, но и весь дом, весь мир.

Конец света, часто выступающий на первый план в постановках «Саломеи», в работе Диденко не происходит. Да, текст Уайльда звучит — и, согласно оригиналу, Луна становится красной, как обещал Иоканаан, и что-то страшное вот-вот должно произойти, повторяет Ирод, но событийно апокалипсис сосредоточен в принцессе. И Нета Рот вмещает в себя весь этот масштаб, выплескивая его в зал вместе с водой и кровью из водоема авторства Гали Солодовниковой — центральной точки сценографии.
Фото на обложке: Саша Гусов
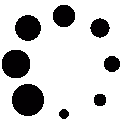 Загрузка ...
Загрузка ...



