«Для того, чтобы сделать спектакль, нужно иметь такие легкие, которые способны в эти странички [пьесы], в этот ненадутый шарик вдуть столько сценического кислорода, чтобы действие заиграло, чтобы создать театр», — говорит с экрана оживленный AI-инструментами Анатолий Васильевич Эфрос.
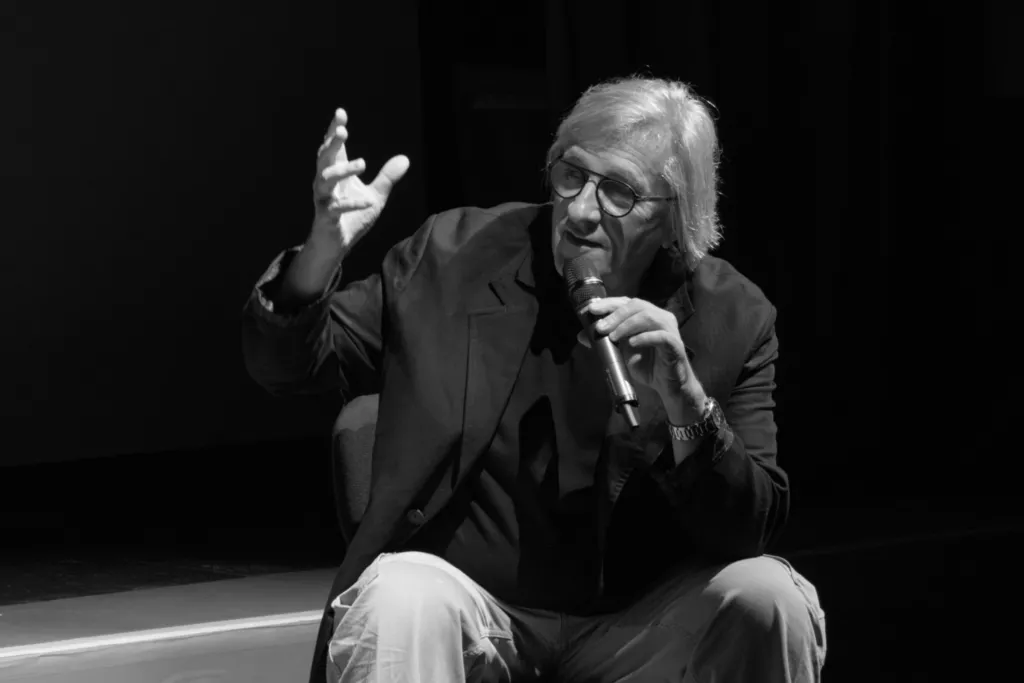
18-минутный фильм к столетию со дня рождения режиссера сделал его сын, Дмитрий Крымов, взявший историю театра в свои руки после смерти отца и покинувший Россию с началом войны. Это — очень личная и очень странная работа. Говорить о ней Крымов не хочет. Да и говорить об этом, кажется, не нужно: боль, растерянность, травма эмиграции и попытки пережить всё это средствами искусства становятся вполне цельным высказыванием. Зато Крымов, подхватывая отца, много говорит о некоем особенном «воздухе», вдыхая и выдыхая который, режиссер может творить магию здесь и сейчас.

На сцене — декорации нью-йоркского спектакля Александра Молочникова «Seagull: True Story», который играют в Лондоне до 11 октября. Сам Молочников здесь же, в зале. Он вздыхает, мечется, ругается: свет неправильный и переключается не вовремя, со звуком какие-то проблемы. Он не может не делать свою работу — не режиссировать. Позже, когда он выйдет уже на сцену для разговора о том, кем был для него и многих других Юрий Бутусов, он начнет с извинений: до того, как сесть и взять микрофон, он должен поправить загнувшийся занавес.

Максим Диденко рассказывает о встрече Электротеатре, после которой Борис Юхананов спас работу Максима «Черный русский» — ту, что гремела на всю страну, а без помощи Юхананова могла и вовсе не состояться. Писатель Олег Радзинский рассказывает, как юный Юхананов декламировал стихи собственного сочинения где-то на Маяковской, неизменно окруженный влюбленными девушками, как грыз сушки целыми днями, ведь ел один раз в сутки — в час ночи, после спектакля. Голоса и имена сменяют друг друга: Анатолий Эфрос считал, что работать нужно радостно, а вот Юрий Бутусов жил словно без кожи и погруженный в работу мог не заметить разлитый на брюки кофе, Юхананов и вовсе занимался не театром — рушил границы допустимого.

Кажется, это вечер воспоминаний о Москве — Москве 70-х, той, которую почти никто из присутствующих никогда не видел, Москве, где «крымов-диденко-молочников» были планами на вечер и кодовыми обозначениями точек на карте, куда все стягивались на премьеры. Москве, потерянной участниками этой встречи, Москве, потерявшей своих режиссеров — «крымов-диденко-молочников» теперь создают свое искусство за пределами России, а «эфрос-юхананов-бутусов» не создадут больше ничего и нигде. Москва, которая была когда-то, еще подмигивает призрачно: так декорации спектакля Крымова «Все тут», приговоренные к «списанию», получают вторую жизнь на крыше торгового центра городской окраины — в перформансе «ЭФРОС100». Но сквозь эти подмигивания проглядывается что-то уже совсем иное.

Герои этого вечера, те, чью память чествовали, вдохновили в разные годы и десятилетия тысячи человек обратиться к режиссерской профессии и театру в широком смысле. Где-то среди этих тысяч — я. И вчера я встретилась не с большими режиссерами, а с самою собой в прошлой, почти потерянной конфигурации. Я вспоминаю бар «Нур» при Электротеатре, куда мы с коллегами стекались после какой-нибудь «Золотой маски», мистификации Юхананова, обращенные к любому собеседнику при любом разговоре, шумную Тверскую с мемориальной доской Анатолия Эфроса, отражающей в розовых переливах город.

Моя память уводит меня и глубже, в дни, когда я специально прыгала в сибирские самолеты, чтобы добраться до московских спектаклей Бутусова — мой близкий друг учился у него, а потому в театры я заходила по проходкам, уверенно (изо всех сил стараясь таковой казаться) называя администраторам фамилию «Бутусов». Мне не вместить сейчас всех пролитых горячих слез, грохота барабанов и диких танцев тех дней, зато я знаю точно, что я сегодняшняя выткана из них и той Москвы. А подобные вчерашней встречи и разговоры — происходящие лондонской осенью — позволяют всё это осознать и разделить с другими.

P.S. Это было навсегда, пока не кончилось. Так называется книга Алексея Юрчака о последнем советском поколении. Но фразу эту хочется применить и ко всему, что происходило с нами и нашим искусством от перестройки до начала войны. Прощаясь с великими художниками, старым укладом жизни и самими собой из московской поры, мы открываем двери в новый мир, живущий по каким-то новым — не всегда понятным — правилам. Но в этом мире, слава богу, есть место для режиссера, нервно поправляющего кулису в лондонском театре. А значит, всё нормально — будущее живет ровно там же, где и невозможность не делать то, что должно.
Часть средств, собранных с продажи билетов на встречу «Профессия: режиссер», будет передана семье Юрия Николаевича Бутусова.
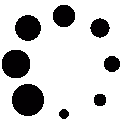 Загрузка ...
Загрузка ...



